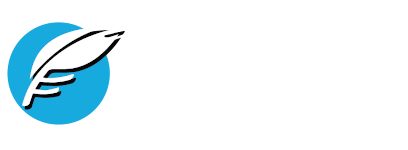«Ну, а изо всех лётчиц самая лучшая, конечно, Дина»: о той, чьё имя сохранило небо
Если год пролетали мы вместе,
Если вылетов больше, чем двести,
То где бы потом мне ни быть,
Всё равно мне тебя не забыть.
Не забуду, как с соткой садились,
Как на Маныче пушки в нас били,
Над горящею Родиной мы проносились,
Чтоб враги про сон позабыли.
Евгения Руднева, 1943 год
774 боевых вылета на хрупком ПО-2, 5650 часов в воздухе, 1500 из которых — ночью. Из смоленской крестьянской избы — к звёздам Героя Советского Союза, от первых тревожных вылетов — к командованию эскадрильей, от Кавказа — до Померании. Таков путь Евдокии Андреевны Никулиной, отважной советской лётчицы, выпускницы Ростовского пединститута 1954 года. Вместе с боевыми подругами свои называли их «сестрёнками», а враги — «ночными ведьмами»: за то, что вылетали с вечерними сумерками и отключали моторы на своих бипланах перед пикированием, оставляя лишь шелест воздуха, схожий со звуком метлы.
А началось всё задолго до Великой Отечественной войны, в детстве. Тогда привычный ход урока в школе деревни Парфёново нарушил рокот мотора. Никогда прежде местные ребята не видели самолётов, и этот, летящий так низко, казался чудом. Занятия были сорваны. Школьники бежали на улицу, к летательному аппарату. Быстрее всех — третьеклассница Дина (так называли её с детства) Никулина. Самолёт почти сразу взлетел, не дав возможности разглядеть его ближе, а Дина тогда впервые заинтересовалась полётом.
Потом у девочки началась другая жизнь. Переезд к брату в Подольск, Школа фабрично-заводского ученичества, после — работа лаборантом и исследование цемента. Только мысль об авиации девушку никогда не оставляла. Так что поход в аэроклуб с подругой не был случайностью. В клуб они не попали — приём уже закончился, зато встретили представителя авиационной школы, агитирующего молодёжь поступать к ним. Так она стала курсантом лётной школы в Балашове, затем — частью эскадрильи, переданной в Батайск. Получала навыки и техника, и лётчика, и бортмеханика, осваивала трёхгодичный курс за два года, сдавала экзамены на высшие оценки.
В начале войны Марина Раскова, опытная лётчица, старший лейтенант госбезопасности, добилась создания женских авиационных подразделений Рабоче-крестьянской Красной армии. В одном из них—46-м гвардейском Таманском Краснознамённом ордена Суворова третьей степени ночном бомбардировочном авиационном полку — оказалась Евдокия Никулина.
Летом 1942 года она отправилась на первое боевое задание — бомбёжку войск противника. Перед вылетом подала заявление о вступлении в партию. «Хочу в первый боевой полёт идти коммунистом», — писала Никулина. Опыта было мало, потому место цели нашли не сразу. Но потом — сброс бомбы на врага, следом — сильный взрыв. Бомбёжка стала успешной, в партию Никулину приняли единогласно. Однако счастливый момент омрачился гибелью командира эскадрильи Любови Ольховской. Тогда Никулина приняла командование на себя.
С тех пор она—командир 46-й эскадрильи, а штурман на её самолете — Евгения Руднева. Историю их дружбы сохранили письма родственникам и дневниковые записи женщин, как, например, признание штурмана матери:
«Ну, а изо всех лётчиц самая лучшая, конечно, Дина. Не потому, что она моя, нет, это было бы слишком нескромно, а потому, что она действительно лучше всех летает».
Однажды самолёт Дины Никулиной вместе со штурманом Ларисой Радчиковой попал в смертельную ловушку — «вилку» шести вражеских прожекторов. Осколки разорвали обшивку, один пробил бак с бензином, другой — ногу Никулиной. Запах топлива стоял в кабине, затрудняя дыхание. Раненую ногу Никулиной обжигала струя разлившегося бензина. Силы вести самолёт оставались. Но вот Никулина заметила: на правой плоскости — огонь. Ещё несколько минут — и пламя коснётся бензина. Тогда самолёт превратится в пылающий факел. Чтобы сбить пламя, Евдокия бросила машину в крутое пике. Чудо свершилось: прожекторы погасли, огонь отступил. Но до аэродрома раненым лётчицам на изрешечённом самолёте было не дотянуть. Никулина вышла и из этой ситуации — посадила машину на обочине дороги, ориентируясь лишь на редкие вспышки фар. Позже, уже побывав в Краснодаре, куда привезли Никулину и Радчикову, Евгения Руднева оставила запись в дневнике:
«Динка просто герой — так хладнокровно посадить машину! Мне не хочется никакого пафоса, но именно о Дине, о простой женщине, сказал Некрасов: «В игре её конный не словит,/В беде не сробеет — спасёт,/ Коня на скаку остановит,/ В горящую избу войдёт».
И снова ночной вылет. Тогда экипаж Никулиной заметил переправу гитлеровцев через Дон и пытался не допустить её. Первая бомба достигла цели, но вторая застряла в бомболюке. Зенитный огонь становился всё плотнее. В очерке «Героини» эта адская ночь описана словами самой лётчицы. «Женя! (Евгения Руднева — Прим, авт.) Тяни ещё» — «Я руки в кровь ободрала, а бомба не отрывается, и только. Сделать ничего не могу». Приходилось «бросать самолёт», и без того теряющий равновесие из-за перевеса стокилограммовым «гостинцем» (так в своём рассказе Евдокия Никулина называла опасный груз)».
«Взгляд упал на бомбу. По правде сказать, от того, что я увидела, перехватило дыхание». Дина заметила обнажённый взрыватель. Произойди удар пятью килограммами — и бомба взорвётся. Пошли на риск и решили сажать машину. Возвращение на аэродром превратилось в испытание: в темноте лётчиц приняли за врага и выключили посадочные огни. Оценив ситуацию, штурман успела написать записку с предупреждением о неисправности и сбросить её на аэродром. Самолёт всё-таки посадили. Инженер по вооружению Надежда Стрелкова сумела обезвредить бомбу. Так избежали катастрофы.
Снова взлёт, снова ночь, снова — в бой. Но даже бесконечно стремясь к небу, женщины оставались женщинами. Перед и после полётов сочиняли заповеди: «Гордись, ты женщина!» или «Не отбивай жениха у ближнего своего»; писали письма этим женихам, а если их не было — выдумывали адресатов; заводили кошек, брали в кабины самолётов цветы. Ещё одной «болезнью» между бомбёжками было вязание. Рукоделием занимались каждую свободную минуту. Уже традиционным подарком стали вышитые рисунки, как, например, наволочка с васильками, подаренная Евдокии Никулиной штурманом эскадрильи Зиной Петровой. И так же по-женски их тянуло к семьям.
После очередного вылета Никулина не вернулась в полк вовремя: начальство позволило ей слетать домой. На подлёте к родной деревне лётчица, глядя на землю, замечала: за четыре года всё изменилось. Знакомые дорога и сосновый бор были уже не те, что раньше. Всюду ямы — воронки от снарядов. И вот — поле, где пашут женщины и молодые ребята. Машину Никулина опустила прямо на него. Вокруг собирались односельчане—так же, как много лет назад школьники вместе с маленькой Диной окружали первый в их жизни самолёт. Все радовались героине и сопровождали её в родную деревню, от которой осталось одно название да землянки, заросший двор и брёвна.
«Жутко мне стало. Иду по деревне, стою у своего двора, а места не узнаю», — делилась Евдокия с подругами. Встретила жену своего брата. Похудевшая и постаревшая, она обнимала лётчицу, вспоминала о матери, рассказывала об изведанном горе, о том, как прятались от фашистов в лесу и радовались, что смогли избежать угона в Германию, а Евдокия, слушая, ещё крепче ненавидела врага...
774 боевых вылета на хрупком ПО-2, 3650 часов в воздухе, 1500 из которых — ночью. Сегодня поднимаем глаза к небу просто так, по привычке: помечтать и на звёзды посмотреть. А восемьдесят лет назад в нём медленно и низко кружили сделанные из фанеры самолёты, тушили пламя и сбрасывали бомбы хрупкие женщины, одной из который была Евдокия Никулина. Не получается смотреть в небо с одним восхищением синевой — смотрим с благодарностью.
Алина ЗАРУБИНА